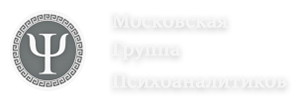Быть аналитиком.
Ирина Навроцкая, тренинг – аналитик МГП (IPA)
Размышляя над темой доклада, я невольно обратилась к творчеству Шекспира, к монологу Гамлета, который благодаря своей структуре, выстроенной на антитезе – быть или не быть, становится невероятно сложным для понимания.
Ход размышлений автора позволяет нам мысленно найти не только ответ на поставленный вопрос, но и задать следующий и так далее. В этом главная интрига не только произведения великого мастера, но и, как мне кажется, нашего повседневного профессионального творчества, в котором игра влечений открывает новые противоречия, смыслы и параллели. Хорошие интерпретации, как известно, не дают ответа, а открывают новые вопросы, которые нужно проработать.
Но в этой игре внутри нас оживает не только аналитик, но и «антианалитик», по образному выражению британского коллеги.
Одним из моих тезисов является то, что обращение к опыту ранних отношений к опыту «мать-дитя» зачастую затрудняетувидеть другой опыт, можно сказать, опыт в ближнем приближении. Благодаря ему, мы и приходим в профессию аналитика, и позволяем себебыть им.
Прежде всего, я имею ввиду мой опыт врача, который какое-то время оставался в тени, и не позволял мне вовремя распознать сложную природу переноса - контрпереноса.
Мне хотелось бы, чтобы вы не просто заглянули в мой кабинет, а почувствовали, что значит быть аналитиком через мои переживания, мысли и впечатления в соответствии с поворотными событиями моей личной - профессиональной истории человека – врача - психоаналитика и обучающего специалиста.Начну с одного клинического наблюдения.
Ко мне обратилась женщина среднего возраста, по профессии - врач, которая жила со своей пожилой матерью.Назовём её Анна.Ее личная жизнь не складывалась, что и стало поводом обратиться за помощью.
В анализе достаточно быстро развился интенсивный перенос, который столкнул меня с трудностью понимания ее основного симптома - удушья.
С одной стороны, я расценивала его как психосоматическое событие - она принимала медикаменты, которые сама себе назначала, с другой этот симптом носил и истерические черты. Ее слабое диффузное Эго функционировало на разных уровнях, что приводило к определенным трудностям в обнаружении и установлении связи с ней.
Анна жаловалась и на чувство давления, стеснения в груди, и ощущения комка в горле.Воспоминая об отце, который ушел из семьик другой женщине, когда пациентке было 13 лет, сопровождались нервным хватанием за ингалятор, но она не пользовалась им, а только крепко прижимала к своей груди. В истории А. было много травматических событий. Ее рано отлучили от груди, и отправили к очень старой набожной женщине - бабушке, которая жила в глухой деревне. Это время она плохо помнит, так же, как и ее "возвращение" в семью. Воспоминания, сныпациентки касались только матери, которая, впадая в депрессии, подолгу лежала в своей спальне, и маленькой девочке приходилось ухаживать за ней. Болезнь матери оказала влияние и на выбор профессии. Сознательно пациентка выбрала аналитика- врача, который поставил бы ее матери диагноз и назначил лечение. Однако бессознательно она все же искала того, с кем можно безопаснопережить горе.
Я понимала, что вначале быстрая идеализация наших отношений в анализе удерживали Анну от коллапса.В контрпереносе я чувствовала одновременно и ее удушающее присутствие, и холодное катастрофическое отсутствие связи.Постепенно я обратила внимание на то, как сильно я вовлечена, как сильно мне хотелось вылечить пациентку и быть для нее врачом. Но в то же время и находиться в аналитической позиции третьего было не просто, как и выдерживать спутанность пациентки, подолгу оставаясь в неопределенности. Время шло, и мало что менялось.
Однажды я заметила, что смотрю на Анну,как врач, осматривающий больного в приемном покое больницы. О, да! Этот взгляд мне был так знаком! В эти моменты я так же обратила внимание на ее речь, которая была особенно монотонной и эмоционально бедной. Но бывало и по-другому, когда я не таквсматривалась, а больше слушала пациентку, находясь во власти ревери. Постепенно я стала сознавать, как это микроразыгрывание защищает меня от понимания ее внешней и внутренней реальности.Разыгрывая контрперенос – «быть врачом», я не видела, что Анна на самом деле не способна выдержать понимание моих интерпретаций, которые на данном этапе носили больше «хирургический», центрированный на ней характер.Таким образом, через понимание контрпереноса я смогла распознать то, на чем сосредоточены тревоги и внимание пациентки, которая не была заинтересована в обретении знаний в отношении себя. Она больше нуждалась в объекте, который ее понимает, она хотела понять, что происходит в психике аналитика, а не в ее собственной.
Опыт пока¬зывает – пишет Джон Стайнер, если аналитик упорно продолжает интерпретиро¬вать или объяснять пациенту его мысли, чувства или действия, контейнирование тревоги ослабевает.Пациент ощущает эти интерпретации как недостаточное контейниро¬ваниеи чувствует, что аналитик вталкивает, спроеци¬рованные в него элементы обратно.В случае с Анной разыгрывание ситуации врач – пациент помогло мне провести различие между понимани¬ем и ощущением себя понятым.Анализ еще продолжается и, хотя Анна все еще пользуется лекарством, это наблюдение позволяет мне больше думать, быть больше в неопределенности - быть аналитиком…
Работа, которой мы занимаемся, дает нам особые привилегии. Прежде всего, это доступ к самым сокровенным уголкам нашей природы - мыслям, чувствам и фантазиям.«Мы никогда не должны утрачивать способность удивляться» - писал Фрейд во «Введении в психоанализ». Но, способны ли мы удивляться, и продолжаем ли мы удивляться? Или наша работа все больше становится рутиной, обычным делом, которое перестало нам нравиться и от которого мы больше не получаем удовольствия?
Наша профессиональная жизнь интересна и apriory должна нам приносить удовольствие. Иначе мы не были бы теми, кто мы есть.Важно, чтобы аналитик был способен получать удовольствие от своего дела и таким образом искать истину, которую Фрейд обозначил, как одну из основных целей лечения. В противном случае, мы становимся бесчувственными и в своем стремлении к идеалу совершаем неизбежные ошибки, все глубже погружаясь в торжество нарциссизма. И тогда на отсутствие удовлетворения в прошлом, аналитик отвечает все более щедрым эмпатическим предложением, отыгрывая отчуждение пациента, сталкивая его с травмой, которое возникла вследствие обрыва связей. Наш ответ на запрос пациента зависит, прежде всего, не только от качества нашего образования, но от предыдущего опыта. Этот опыт подсказывает нам насколько мы должны быть чуткими в сопровождении пациента, независимо от того говорим ли мы, или храним молчание.Ощущение, что аналитик обладает некими знаниями, позволяет пациенту установить первую связь. Это и дает нам возможность помощи, и создает трудности в том, как и каким образом, он нуждается в наших знаниях.Сложность здесь в том, чтобы не насыщать себя и пациента преждевременным или предшествующим знанием на пути создания нового объекта и нового знания о нем, на что еще обращал внимание Андре Грин.
Позиция знания, понимания всегда очень соблазнительна, прежде всего, в ситуациях нашей беспомощности, которая побуждает нас стремиться к знаниям любой ценой.Ценой потери ограничений и лимитов, что неизбежно приводит к идеализации и в свою очередь к отвержению предыдущего опыта и практики.Но мы не должны забывать, что каждый из нас имеет свой удивительный жизненный опыт. Его уникальность неоспорима и многое зависит и от того, что мы с ним делаем и как мы его прорабатываем.Например, Фрейд подарил нам теорию Эдипова комплекса, основываясь на личном опыте своей семьи, где происходили разного рода смешения между поколениями. А Кляйн, и это важно, узнала о депрессии благодаря реальному, непосредственному опыту материнства.Но нам известен и другой опыт Фрейда – опыт врача.
Когда он, предлагая понимание аналитического процесса посредством метода свободных ассоциаций, вначале занял авторитарную позицию с внушениями и манипуляциями, которую так хорошо описалв работе 1913 года«О начале лечения».Известно, что в то время еще до создания структурной модели взгляды Фрейда предполагали, что аналитик будет решать задачи пациента за его счет. Понятно, что топографическая теория сужала его представления, и неизбежно приводила к картине послушного пациента и авторитарного аналитика. Но, удивительно то,что, несмотря на наши знания, эта модель все еще оказывает неуловимое влияние на нашу технику!Как призрак отца Гамлета. Так кем нам быть или не быть? И в какой момент сессии?
Моё знакомство с психоанализом началось достаточно обычно. После окончания школы, я, как и многие мои одноклассники, поступила в медицинский институт (академию) и сильно увлеклась психоэндокринологией. Мне было любопытно, как функционирует психика на молекулярном уровне.Тогда я, конечно, не понимала, что мой интерес связан с предчувствием, что и у меня есть мой собственный психический ландшафт со своими нарциссическими взлетами к вершинам воображаемого Эвереста и неизбежными депрессивными падениями. И, кажется случайно, судьба привела меня к пионерам возрождения психоанализа в России. Это было РПА – Российская Психоаналитическая Ассоциация (в дальнейшем РПО), созданная и вдохновлённая профессором Ароном Белкиным на Арбате.
Я хорошо помню, как работая над изданием первого в России сборника статей Фрейда на русском языке, я пришла в ужас, обнаружив у себя Эдипов комплекс. С одной стороны, в то время отношение к нему было шутливым и снисходительным, как в еврейском анекдоте: «Комплекс, не комплекс, лишь бы мамочку любил…»
С другой, это открытие способствовало зарождению первой мысли о поиске аналитика, (надо сказать, что в то время конец 80 - х в Россииих ещё не было). Но, видимо, эта идея меня так сильно напугала, что я быстро забыла о ней на… 10 лет. По известным причинам тогда победил мой интерес к медицине. И получив диплом врача, я успешно продолжила образование в аспирантуре по психиатрии. Таким образом, мои нарциссизм, мои нарциссические амбиции привели скорее к эдипальным иллюзиям, которые, думаю, я успешно реализовала на троне той, еще советской психиатрии - медицинской элиты.Это было на заре возрождения нашего психоанализа, и новые идеи, привезённые первыми аналитиками филадельфийского института, были одновременно и притягательными, и пугающими. Поэтому вакцинация новыми знаниями не могла пройти безболезненно, несмотря на бережное обращение с нами иностранных тренеров. Я помню и бесценные откровения о своей внутренней жизни, и стремительные водовороты тревожных, незнакомых и опасных переживаний.
Поэтому, какое - то время я пыталась держаться за биохимические и гормональные механизмы работы мозга, которые, однако, очень быстро навеяли на меня скуку. Довольно скоро возникло чувство тупика, моя работа в качестве врача – психиатра перестала приносить удовлетворение. Наверное, мне нужно было столкнуться с чувство одиночества, отчаяния, и неуверенности, чтобы появилась первая несмелая фантазия о прохождении личного анализа.Ее воплощением стал образ Анастасии Наков – славянки по происхождению, живущей во Франции. Она напомнила мне мою добрую бабушку. И хотя потом судьба подарила мне тренера за океаном, в Америке, считаю, что эта первая встреча была решающей и волнующей как первая любовь. Она подарила мне ощущение дома, чего – то привычного и очень знакомого.
Этот опыт стал первым безопасным приближением к собственным внутренним объектам. Тогда я впервые поверила, что могу быть сама собой и выбирать свой творческий путь. И, кажется, в тот самый момент я решила расстаться с «белым халатом». С одной стороны, сделать это было очень легко, с другой я и не подозревала, как глубоко укоренился мой врачебный дебют. Пытаясь от него освободиться, я с головой ушла в идеализацию новых знаний. Я вновь почувствовала себя молодой студенткой, рвущейся к вершинам профессии, словно «Его Величество Бэби».
Мы знаем, как важен этот период в развитии каждого, как важно быть «его величеством» особенно для девочки, которая входит в Эдипову проблематику по нарциссическим мотивам. Не сомневаюсь, что нарциссический мотив многих приводит и в нашу профессию. И как трудно, вне зависимости от пола, принять позицию другую – женскую, рецептивную, о которой все больше говорят последнее время. Все больше говорят о зависти к фаллосу и отказу от него. А сделать это совсем не просто, потому что за желанием фаллоса, желанием быть фаллосом стоит огромное удовольствие.
Фрейд, рассуждая об «Анализе конечном и бесконечном», делает удивительный и неожиданный поворот в сторону женственности, в сторону ее отрицания. Наряду с инстинктом смерти, он описал горизонт, за которым прогресс представляется невозможным. Но, современный подход отличается от пессимизма Фрейда того времени. Известно, что в то время он был откровенно заинтересован в том, чтобы связать конечную причину сопротивления в анализе с действием разрушительной силы.
Кляйн, поддерживая Фрейда, описала решающую роль зависти в качестве этой разрушительной силы. Джон Стайнер, уже продолжая ее мысли, заменяет идею инстинкта смерти на инстинкт анти-жизни, который выражен завистью.Завистью, прежде всего, к груди. Напомню, что Кляйн утверждала, что хорошие отношения с грудью как с символом материнской ценности жизненно важны для младенца, устанавливающего хорошие отношения между внутренними объектами. Для того чтобы обеспечить ему основу для будущего развития.«В анализе наших пациентов - писала Кляйн, мы находим, что грудь в ее хорошем аспекте является прообразом материнского добра, неиссякаемого терпения и щедрости, а также способностей создавать. Именно эти фантазии и инстинктивные потребности настолько обогащают первичный объект, что он остается основой надежды, доверия и веры в добро».Она также признавала, что зависть приводит к ненависти, которая направлена на мать, ее грудь, и как следствие, на все ее отношения. В свою очередь Ханна Сигал подчеркивала, что зависть является и мощным элементом спутанности. Чем сильнее зависть, тем лучше и лучше становится фантазийный объект и тем быстрее он превращается в плохой, погружая нас в спутанность. Спутанность и неопределенность, как известно, становятся источниками сильной тревоги.А тревога по образному выражению Мак Дугалл — это мать всех постановок в психическом театре. Без ее сигналов об опасности многие рискуют не узнать о том, что они чувствуют угрозу для самих себя.
В практике врача мне часто приходилось сталкиваться с пациентами, которым удалось уничтожить следы сильной тревоги таким образом, что ее опыт отвергался и не мог стать предметом размышления. Большая частьжизни таких пациентов становилась безжизненной и мертвой. Как будто существует только один путь встречи с реальностью – фактом нашей смертности. Врач первый, кто сталкивается с реальностью, прежде всего, с этой реальностью, с реальностью нашей смерти.Я хорошо помню, как на 1 - м курсе института, в анатомичке, однажды опоздав на занятие, я была «наказана» «почётной» обязанностью достать труп из формалиновой ванны, где он хранился.Медицинское обучение, обучение врача построено так, что вначале имеет место реальный опыт взаимодействия с мёртвым телом, его костями и внутренними органами, как говориться, без прикрас.
Многие, нужно сказать, по этой причине сразу уходят из профессии. Голый реализм, ничем не прикрытая, жестокая правда смерти - безобразный, начавший разлагаться труп – первое, с чем сталкивается тот, кто решил посвятить себя медицине.Как на картине Ганса Гольбейна «Мёртвый Христос в гробу».
На полотне Гольбейна Христос предстает перед нами не как сверхсущество, а как обычный человек.Он, как и все мы, смертен. Это потом его дух, победив тьму, воспарит и подарит миру чудо Воскрешения. Мертвый натурщик невольно дал мастеру настоящий материал для создания предельно реалистичного и тем особенно страшного образа насильственной жестокой смерти.В полотне Гольбейна Христос бесконечно одинок - рядом с ним нет ни родных, ни его последователей. И мы также одиноки перед лицом смерти перед лицом реальности.Видимо поэтому, в бессознательном мы бессмертны, и поэтому нам так трудно приблизиться к горю, вокруг которого, как известно, развиваются все психоаналитические теории.
Тогда в клинике, работая врачом, я имела дело больше не с горем, а с меланхолией, с ее тенденциейи стремлением к ней, по сути, с защитой, которая, так актуальна в наш век онкологии и психосоматики, когда привязанность отрицается, так же, как и помощь, которая оставляет глубокие раны.Такие люди – наши пациенты живут во внешней реальности, где эмоциям нет места, а в отношениях с другими господствует прагматизм.Моя пациентка Анна приглашала к такому конкретному взаимодействию, контактувнешнему и поверхностному, поэтому разыгрывание в сессии было еще одной попыткой помочь Анне стать живой.
Мой опыт врача, хочу подчеркнуть реальный, опыт переживания вины и спутанности сейчас становится незаменимым в контрпереносных переживаниях с такими пациентами, которых еще Джойс МакДугалл называла «анти-анализантами в анализе».Внешне они более чем «нормальные», потому что они очень успешно прячутся за фасад «псевдонормальности». Так же,как и врачи, избегая своего эмоционального опыта, отыгрывают и разыгрывают свой контрперенос. Их броня, внешне в виде белого халата, выполняет защитную функцию. И эта броня порой не позволяет нам отличить, где врач, где пациент. Понятно, что во всем виновата их психическая активность, ее экономика.¬И врача, и пациента здесь объединяет то, что переживаниеэмоций представляет для них угрозу, угрозу для их чувства целостности и идентичности. ¬Их страдания не связаны с бессилиемвыражать или испытывать эмоции. Они уязвимы, прежде всего, к неспособности контейнировать избыточный аффективный опыт и думать о нем. В худшем случае, например,у медиков мы можем наблюдатьнарушения психосоматического ряда, а в лучшем в кавычках - скандалы с их участием, которые в России происходят с пугающей регулярностью. Врачебные ошибки, нехватка лекарств, игры со смертностью уже не удивляют нас. Доктора вынуждены врать, совершать подлоги и вещи намного худшие в погоне за красивыми цифрами. Они поставлены перед необходимостью имитировать лечение и обманывать даже безнадежно больных, понимая, что государство хочет видеть благополучную картину. Все это порождает безумный цикл взаимной ненависти, коррупции и выгорания кадров.
В чем причина такого бедствия? В чем причина разрыва между эмоциями и репрезентациями, к которым они принадлежат? Почему рушится мост, соединяющий репрезентацию вещей и слов?
Известно, что очень сильный стресс, напряжение вызывает разрядку через «отреагирование», действие, которое и защищает нас от боли, и повышает риск психосоматической уязвимости.Важно помнить, что эмоции всегда психосоматические события, поэтому избавление от психической части приводит к выражению их через путь телесный. В норме – мы можем наблюдать это у младенца, а в патологии, например, в клинике внутренних болезней - повторную соматизацию аффекта, когда психические сигналы идут коротким путем через действие, без слов. Понятно, что этот путь ведет к полной психической беспомощности и в плане решения проблем. Психика, ее экономика находит только один маршрут – всемогущий, когда потребность в другом человеке, как и потребность в лекарствах, пищи, алкоголе связана с успокоением, в результате короткой и быстрой компульсии.В своё время меня удивляли бесконечные повторные госпитализации таких пациентов и назначения им новых и новых курсов лечения. Тогда я не могла понимать, что бессознательно они наделяли и клинику, и меня - врачаролью «материнской груди», которая несет ответственность за все – и за удовольствия, и за боль.Бессознательно я позволяла манипулировать собой, и вовлекаться в их конфликты, становясь созависимой на пути профессионального самовыгорания.
День за днем моя речь, как и слова моих коллег, становиласьсугубо специфичной. Профессиональный язык все больше приобретал черты выхолощенности. Смерть пациента, его страдания, как на поле боя превращались в рутину во что-то будничное. Так со временем контейнер той энергии, которая связана с влечениями и бессознательными фантазиями стал разваливаться. Фразы: «Как вы себя чувствуете? Что у вас болит?» все больше становились сухими, наполняясь проекциями матери, мир, которой был пустым и мертвым. Боль, ее переживание все труднее выражалась словами, что вело к высокому риску возникновения соматических ответов.
На собственном опыте я убедилась, что профессия врача, если она не включает личный аналитический опыт, чрезвычайно опасна. И статистика здесь беспощадна - это и низкий IQ у представителей этой профессии, и короткаяих продолжительность жизни. И это все, что мы имеем в финале врачебной карьеры?! Об этом важно помнить тем, кто нашел в этой героической профессии свое призванием. Молодым неплохо бы знать, что их ждет работа не только с телом, но и с психикой – всегда с психикой, которая не способна репрезентировать психически идеи, связанные с качеством эмоций. И чаще всего она не может вытеснить такие презентации. Вместо этого правят бал более примитивные механизмы расщепления и проективной идентификации как защита от невыносимых психических страданий.И тогда плохая невыносимая мысль в соответствии с ее аффектом проецируется (выбрасывается) вовне, чтобы у других вызвать чувства, которые отвергнуты. Нужно помнить, что такие пациенты говорят и действуют так, как их родители поступали с ними, когда они были детьми и часто у них отсутствуют иные способы сообщить о своем чувстве беспомощности и боли.Убивая себя и других, эти пациенты «просто» пытаются донести лежащую в глубине боль.
«Здесь, впору задуматься - спрашивает Андре Грин, почему пациент выбрал именно этот язык и почему он использует именно эти краски»? «И кто тогда присутствует в кабинете?Взрослый?Ребенок? И на каком языке говорить нам»?
Цитата:«На языке рассерженного ребенка? На языке его инцестуозной части? Или это язык возбужденного любовника? Или осуждающего отца? А может лучше выражаться языком соблазняющей матери?"
Но есть и другие пациенты, которые показывают нам, что за фасадом слов и молчанием нет НИКОГО.Тогда мы сталкиваемся с опытом нарушения «непрерывности бытия» (Д.Винникотт), опытом "несуществования" (А.Грин) или опытом "ничто" (У.Бион).
Впору задаться вопросом – зачем нам, аналитикамвесь этот реализм, клинический опыт, опыт конкретного взаимодействия с телом пациента? И можно ли услышать музыку боя, по образному выражению одного полководца, не побывав в пекле сражения? В бою, под обстрелом, можно сказать, в основной аналитической коммуникации, переносе и контрпереносе, мы должны различать два вектора. Один - «символический», когда используетсяязык. Другой - «экономический», когда мы прибегаем к действию.Конечно, чтобы анализировать наших пациентов, мы, должны преобразовать их компульсивное стремление к действию в ассоциативную речь.Легко сказать!
Но, тем не менее, отыгрывания имеют место в любой переноснойситуации. Как пишетФрейд: «никто не может быть, как подвешенное чучело» - перенос должен сопровождаться отыгрываниями для того, чтобы быть проинтерпретированным. В противном случае (при недостатке отыгрываний), аналитический процесс ограничивается словами, лишенными жизни, и сводится исключительно к когнитивным процессам.Более - менее успешно мы преобразовываем действия пациентов в слова-презентации. Но мы в ответе и за свои отыгрывания. Жан Люк-Донне, говоря об искусстве интерпретации, сделал акцент на способности удерживать компульсивое повторение отыгрыванияв аналитических рамках для преодоления разрыва(экономико-символического разрыва) между этими двумя векторами переноса. «Когда слишком много «экономики» и слишком много разыгрывания, необходима фаза психоаналитической психотерапии для преобразования импульсов Ид в бессознательные репрезентации. Если же слишком много «символического», слишком много слов с двойным смыслом, например, омофоний(слова близкие по звучанию, но с разным смыслом) мы неизбежно попадаем в интеллектуальный анализ и сталкиваемся с отсутствием настоящей жизни». Почувствовать присутствие или отсутствие этой настоящей жизни в анализе, можно только, когда узнаешь эту жизнь за его рамками. Когда, например,известный принцип - «лечить не болезнь, а больного», провозглашенный еще знаменитым эскулапом древности Гиппократом, на деле, в той самой жизни направлен на лечение «отдельных симптомов» у, бог знает, какого среднестатистического человека. И даже «свет в конце тоннеля» в виде новейших достижений всё той же молекулярной биологии превращает индивидуальный подход в механический.Этот опыт, опыт за кадром, рамкой позволяет лучше видеть не только взаимодействие с пациентом, но и между собой в моменты, когда роботизация особенно интенсивно проникает и в наши аналитические ряды.Удивляет то, что это лучше видно со стороны. Например, со стороны непрофессионалов, которые поражаются тому, что мы, чья профессия – слушать, так плохо умеем прислушиваться друг к другу. Мы начинаем плохо друг друга понимать. Исчезает наш язык как средство коммуникации, а с ним и мы. И тогда возникает ситуация как при неправильном переводе. Ребенок кричит, а мать не умеет опознать и назвать влечения. Когда имеет место несогласованность (дискордантность) между проявлением телесных потребностей и искаженным смыслом, который мать ему приписывает.
Фрейд стал основой наших знаний. Но мы должны быть креативны, в пределах, разумеется, наших способностей, иначе мы не сможем практиковать психоанализ. В своих теориях порой мы пытаемся сконструировать историю пациента там, где ее нет. Мы становимся в некотором роде мистиками подобно ребенку, которого захватил импульс эпистемофилии о своем происхождении и младенчестве. Но мы не можем согласиться, что наши теории всего лишь детские фантазии. И мы и не можем утверждать, что наше воображение есть выражение научной истины. Мы лишь приближаемся к ней. Мы знаем, что это всего лишь миф, который мы пытаемся объяснить и преобразовать. И «без метапсихологических спекуляций и теоретизирования – писал Фрейд, мы не сможем сделать еще один шаг вперед».
Я хочу добавить, что без реалий клинической практики мы рискуем очень далеко уйти в своей интеллектуализации, забывая о заботе о наших символических детях.Мы рискуем сознательно или бессознательно злоупотреблять той властью в отношении пациентов, которая даёт нам ситуация аналитического переноса.
Хорошо известна врачебная одержимость на грани навязчивости вылечить больного.
С другой стороны, этот опыт может привести к репарации контролирующей и маниакальной. И тогда символическое родительство может утратить своё символическое качество и стать конкретным и удушающим для развития пациента.А в обучении этоможет отражаться на создании империи своих учеников и последователей.И когда в нас пробуждается «антианалитик», несущий в себе, в том числе, и опыт прежних лет, мы испытываем искушение вернуться на знакомую позицию врача, теряя веру в психоанализ. Мы узнаем его в себе в моменты излишнего дружелюбия, доверия или наоборот, когда начинаем поучать или наставлять.И тогда мы неотвратимо занимаем сторону пациента или наоборот противоположную, стараясь убедить его, оправдывая себя и читая ему лекцию. Конечно же такие моменты были, есть и будут у каждого.
В заключении я хотела бы подчеркнуть, что более привычный путь к ранним объектам отношениям поройпрепятствует интеграции более позднего опыта базового медицинского образования, что ограничивает исследование контрпереноса и в целом достижение депрессивной позиции.
Литература:
1. Birksted-Breen, D. Phallus, Penis And Mental Space.
2. Brenman, E. Separation - A Clinical Problem.
3. Diatkine, G. Влечения, отыгрывания и точки переключения.
4. Фрейд, З. Печаль и меланхолия.
5. Feldman, M. Doubt, Conviction and the Analytic Process.
6. Goldsmith, G. Гамлет, Дон Кихот и будущее российского психоанализа.
7. Golomb, A. Как мы объясняем свои ошибки.
8. Green, A. Мертвая мать.
9. Joseph, B. О переживании психической боли.
10. Schmidt, C. Эмпатическая пустота.
11. Segal, H. Исцеляющие факторы в психоанализе.
12. Sklar, J. Вынести невыносимое - психоаналитическое контейнирование.